© 2015 Марк Васильевич ГОЛОВИЗНИН
МАиБ 2015 — №1 (9)
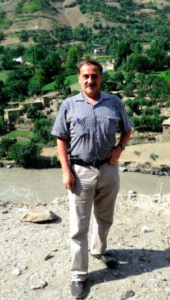 Ключевые слова: медицинская служба ГУЛАГа, Колымские рассказы, медик как защитник заключенных, гуманитарные качества медика
Ключевые слова: медицинская служба ГУЛАГа, Колымские рассказы, медик как защитник заключенных, гуманитарные качества медика
Аннотация: Медицинская система Колымского ГУЛАГа конца 30-х – начала 50-х годов ХХ века обеспечивала функционирование «макросистемы» принудительного труда, ставшего кардинальным социальным и производственным фактором сталинского СССР. Важнейшим источником о здоровье, точнее сказать, о выживании заключенных ГУЛАГа стали произведения художественной литературы, в первую очередь, «Колымские рассказы» Варлама Тихоновича Шаламова, из которых почти 50% посвящены описанию лагерной медицины. Писатель, много лет проработавший лагерным медиком, оставил детальную картину самой медицинской системы ГУЛАГа, и многочисленных её частностей: образов медиков, больных, «симулянтов», администраторов; описание лагерных больниц; характеристику взаимоотношений врач – пациент – лагерное начальство, врач – пациент – уголовный мир, клинических случаев, которые он наблюдал; описание лагерной гигиены и санитарии. Писатель недвусмысленно характеризует врачей как единственных защитников заключенных, наделенных большой властью, ибо никто из лагерного начальства не мог контролировать действия специалиста. «Почти всегда лагерные начальники были во вражде со своими медиками – сама работа разводила их в разные стороны». Гуманитарные качества медика Шаламов ставит на ступень выше узко понятого профессионального долга.
Варлам Шаламов среди писателей-медиков занимает особое место. Большинство его собратьев по перу начинали свой творческий путь с медицины, становясь писателями уже в зрелом возрасте, накопив достаточный жизненный и профессиональный опыт. Шаламов с молодых лет увлекался литературным творчеством, не планируя заниматься медициной. Медиком он стал волей судьбы в колымском ГУЛАГе, где, по его собственному свидетельству, фельдшерские курсы давали шанс спастись от работы на рудниках, а, следовательно – от смерти. В то же время, как будет показано далее, Шаламов вполне осознавал, что медицинские знания и опыт выведут его литературное творчество на качественно новый уровень.
Анализ основной прозы Шаламова – «Колымских рассказов» – показывает, что медицинские сюжеты встречаются примерно в 74-х из 137 текстов (не считая «Очерков преступного мира»), т.е. в 54–55% случаев. Из них в 61-м рассказе (44,5%) медицинский сюжет является центральным. В таких сборниках, как собственно «Колымские рассказы», «Левый берег», «Перчатка», рассказы с медицинской тематикой составляют больше половины содержания. При данной статистике очевидно, что если бы Шаламов не соприкоснулся с медицинской профессией, то его проза не существовала бы в том виде, в каком мы ее знаем.
Наброски описания лагерного медперсонала Шаламов начал, вероятно, как пациент. Это дополнилось и углубилось, когда он сам стал заниматься медициной и увидел вокруг себя других медиков, стоявших выше, ниже или вровень с ним. Логично, что на первом по важности месте в сюжетах его прозы стоят реальные люди, которые помогли Шаламову (и не ему одному) выжить в нечеловеческих условиях колымского лагерного ада: Борис Лесняк, Нина Савоева, Андрей Пантюхов, Петр Каламбет и другие.
«На крыльце зажегся свет, кто-то с «летучей мышью» пошел вдоль барака, потом вернулся. — Где больной? Впервые за шесть лет меня назвали больным, а не падлой или доходягой» («Беличья») (Шаламов 2004; т.4: 506–517).
«Я раздвинул губы, подвигал челюстями – должна была получиться улыбка. Врач это понял и улыбнулся ответно. – Зовут меня Андрей Михайлович, – сказал он. – Лечиться вам нечего. У меня засосало под ложечкой. – Да, – повторил врач громким голосом. – Вам нечего лечиться. Вас надо кормить и мыть. Вам надо лежать, лежать и есть. Правда, матрасы наши – не перина. Ну, вы еще ничего – ворочайтесь побольше, и пролежней не будет. Полежите месяца два. А там и весна. Врач усмехнулся. Я чувствовал радость, конечно: еще бы! Целых два месяца! Но я не в силах был выразить радость» («Домино») (Шаламов 2004; т.1: 158–167).
«О Борисе Лесняке, Нине Владимировне Савоевой мне следовало написать давно. Именно Лесняку и Савоевой, а также Пантюхову обязан я реальной помощью в наитруднейшие мои колымские дни и ночи. Обязан жизнью. Если жизнь считать за благо – в чем я сомневаюсь, – я обязан реальной помощью, не сочувствием, не соболезнованием, а реальной помощью трем реальным людям 1943 года. Следует знать, что они вошли в мою жизнь после восьми лет скитаний от золотого забоя прииска к следственному комбинату и расстрельной тюрьме колымской, в жизнь доходяги золотого забоя тридцать седьмого и тридцать восьмого года, доходяги, у которого изменилось мнение о жизни как о благе. К этому времени я завидовал только тем людям, которые нашли мужество покончить с собой во время сбора нашего этапа на Колыму в июле тридцать седьмого года в этапном корпусе Бутырской тюрьмы» («Перчатка») (Шаламов 2004; т.2: 283–311).
Шаламов однозначно показывает, что ради спасения жизни заключенного врач не только может, но и должен поступиться узко профессиональными принципами, в частности, в рассказе «Кусок мяса» хирург ставит заключенному пациенту вымышленный диагноз острого аппендицита, чтобы спасти «з/к» от неминуемой смерти.
«С полгода назад, во время очередного приезда в поселок «черного ворона» и очередной охоты на людей, Голубев, которого тогда не было в списках, стоял около вахты рядом с заключенным-хирургом. Хирург работал в больничке не только хирургом, а лечил от всех болезней. Очередную партию пойманных, изловленных, разоблаченных арестантов заталкивали в «черный ворон». Хирург прощался со своим другом – того увозили. А Голубев стоял рядом с хирургом. И когда машина уползла, поднимая облака пыли, и скрылась в горном ущелье, хирург сказал, глядя в глаза Голубева, сказал про своего друга, уехавшего на смерть: «Сам виноват. Приступ острого аппендицита – и остался бы здесь». Голубев хорошо запомнил эти слова. Запомнил не мысль, не суждение. Это было зрительное воспоминание: твердые глаза хирурга, мощные облака пыли. – Тебя ищет нарядчик, – подбежал кто-то, и Голубев увидел нарядчика. – Собирайся! – В руках нарядчика была бумажка-список. Список был небольшой. – Сейчас, – сказал Голубев. – На вахту придешь. Но Голубев не пошел на вахту. Держась обеими руками за правую половину живота, он застонал, заковылял в сторону санчасти. На крыльцо вышел хирург, тот самый хирург, и что-то отразилось в его глазах, какое-то воспоминание. Может быть, пыльное облако, скрывающее автомашину, увозившую навсегда друга хирурга. Осмотр был недолог. – В больницу. И вызывайте операционную сестру. Ассистировать вызывайте врача с вольного поселка. Срочная операция».
Так, по молчаливому сговору хирурга и «пациента», у последнего удаляют здоровый аппендикс. Это спасло Голубева от штрафного этапа (Шаламов 2004; т.1: 331–338).
То, что описанные Шаламовым врачи-подвижники действительно встречались в колымском ГУЛАГе – знаменательно, более того, и в нацистских концлагерях далеко не все врачи были изуверами типа доктора Менгеля. Наверняка среди них были и такие, кто на свой страх и риск помогал узникам. Но Шаламов в лагерной прозе недвусмысленно показывает, что дело не только в подвижниках-одиночках. Он намеренно противопоставляет лагерных медиков как когорту всему другому лагерному начальству, представители которого в той или иной мере ускоряли конец заключенных и только врач делал прямо противоположное. Эта, на мой взгляд, главная мысль, выражена писателем в рассказе «Красный крест»:
«Единственный защитник заключенного, реальный его защитник – лагерный врач. Власть у него очень большая, ибо никто из лагерного начальства не мог контролировать действия специалиста. Если врач давал неверное, недобросовестное заключение, определить это мог только медицинский работник высшего или равного ранга – опять же специалист. Почти всегда лагерные начальники были во вражде со своими медиками – сама работа разводила их в разные стороны. Начальник хотел, чтобы группа «В» (временно освобожденные от работы по болезни) была поменьше, чтобы лагерь побольше людей выставил на работу. Врач же видел, что границы добра и зла тут давно перейдены, что люди, выходящие на работу, больны, усталы, истощены и имеют право на освобождение от работы в гораздо большем количестве, чем это думалось начальству» (Шаламов 2004; т.1: 331–338).
В другом рассказе, написанном от первого лица, Шаламов, в унисон сказанному им выше, настаивает на освобождении от работ заключенного, которому он, как фельдшер поставил диагноз злокачественной гипертонии:
«Нет, товарищ начальник. Сначала я его освобожу от работы, а вы вызовете комиссию из управления. Комиссия либо утвердит мои действия, либо снимет с работы. Вы можете написать на меня рапорт, но попрошу вас моих чисто медицинских дел не касаться» («Рива-Рочи») (Шаламов 2004; т.2: 445–461).
Разумеется, как будет показано далее, отнюдь не все медики ГУЛАГа удерживали эту высокую планку. Но исключения, даже если они многочисленны, призваны у писателя подтверждать правило. Филипп Пинель, расковавший пациентов парижского госпиталя Сальпетриер, также был в его время представителем меньшинства.
Портретов медиков, ставших продуктами системы ГУЛАГа и ее неотъемлемой частью, в «Колымских рассказах» едва ли не больше, чем медиков-подвижников, способных на сопротивление. Шаламов в галерее образов выстраивает ту наклонную плоскость, по которой скатывался врач, вынужденный все более и более приспосабливаться к системе. Одним из ее деморализующих факторов, едва ли не первым, по мнению Шаламова, был уголовный мир, прекрасно учитывавший особое положение врача в лагере.
«Иметь врача «на крючке» – мечта всякой блатной компании. Блатарь может быть груб и дерзок с любым начальником […] перед врачом блатарь лебезит, подчас пресмыкается и не позволит грубого слова в отношении врача, пока блатарь не увидит, что ему не верят, что его наглые требования никто выполнять не собирается» (Шаламов 2004; т.1: 181–188).
Врачей подкупали, что очень плохо, врачей запугивали, что Шаламов мог извинить, так как угрозы лагерных воров были совсем не пустыми угрозами. Убийства и заключенных, и вольных медиков, не поддающихся на уговоры и запугивания, были в ГУЛАГе обычным явлением. Молодой врач Суровой был убит прямо во время приема и на теле его насчитали 53 раны.
Если сознание врача не могло выдержать окружающей действительности, он разными путями уходил от реальности. Наиболее легкий уход – алкоголизм и токсикомания – описан Шаламовым в очерках «Военный комиссар» и «Житие инженера Кипреева». Их героиня Анна Сергеевна Новикова, высококлассный отоларинголог-хирург, страдала хроническим алкоголизмом, от чего некоторые сложные операции, которые умела делать только она одна, откладывались на несколько дней:
«Сорок восемь часов блистательную ученицу Воячека отливали водой, отпаивали нашатырем, промывали желудок и кишечник, накачивали крепким чаем. Через двое суток перестали дрожать пальцы Анны Сергеевны – и операция началась. Запойная алкоголичка, наркоманка, с похмелья выливавшая все флаконы в одну общую темную чашку-миску и хлебавшая это пойло, чтобы вновь захмелеть и заснуть. Пойла в этих случаях надо было немного. Сейчас Новикова в халате и в маске покрикивала на ассистентов, подавала короткие команды – рот был прополоскан, промыт, и только иногда до ассистентов доносился запах перегара» («Военный комиссар») (Шаламов 2004; т.2: 437–445).
В рассказе «Прокуратор Иудеи» Шаламов пишет о вытеснении из сферы сознания тех запредельных впечатлений, которых нормальная психика человека была бы не в состоянии вынести. Главный герой – заведующий хирургическим отделением, бывший фронтовой врач, приехавший по найму на Колыму – Кубанцев в первый день своего назначения принимает в больнице огромное количество пациентов с отморожениями рук и ног, снятых с прибывшего в Магадан парохода, где вспыхнул бунт заключенных, и трюмы были залиты ледяной водой. Потрясенный страшной картиной сотен обмороженных людей, заполнявших все коридоры его отделения, Кубанцев теряет контроль над ситуацией, не зная, что предпринять. На помощь ему приходит заключенный хирург Браудэ, понимавший, что им всем предстоит выполнить конвейерным методом десятки, если не сотни ампутаций и знавший, как организовать этот процесс. Кубанцев, чей мозг так и не смог оправиться от перенесенного ужаса попросту стер из памяти этот злополучный день.
«Через семнадцать лет Кубанцев вспоминал имя, отчество каждого фельдшера из заключенных, каждую медсестру, вспоминал, кто с кем из заключенных «жил», имея в виду лагерные романы. Вспомнил подробный чин каждого начальника из тех, что поподлее. Одного только не вспомнил Кубанцев – парохода «КИМ» с тремя тысячами обмороженных заключенных» (Шаламов 2004; т.1: 223–225).
Браудэ, в прошлом подающий надежды молодой хирург, которому арест 37-го года и десятилетний срок лагерей полностью сломал жизнь, напротив, полностью отдавался хирургии, страдая, если в жизни удавался день без единого разреза. Пытаясь забыть свой арест, жизнь до ареста, не думать о сомнительном будущем, он в тот злополучный день «командовал, резал, ругался».
«Браудэ жил, забывая себя, и хоть в минуты раздумья часто ругал себя за эту презренную забывчивость – переделать себя он не мог» (Шаламов 2004; т.1: 223–225).
Таким образом, Варлам Шаламов, предвосхитив современных клинических психологов, актуализировал проблему профессионального, точнее, эмоционального выгорания врача – механизма психологической защиты от травмы психики в виде полного или частичного исключения эмоций из сферы деятельности. Данный механизм защиты, если жизнь требует его бесконечного включения, оставляет заметные следы в эмоционально-волевой, а позже – и в психической сфере человека. Эта проблема только сейчас получает по-настоящему научное осмысление. Говоря об эмоциональном выгорании, или, шире – о профессиональной деформации личности медика, психологи ставят на первое место «синдром дегуманизации», при котором происходит полная или частичная утрата интереса к человеку. Он уже воспринимается как неодушевленный объект, как предмет для манипуляций, при этом реальные проблемы и потребности такого «объекта», даже сам факт его существования не вызывают ничего, кроме реакции отторжения. Нужно сказать, что «синдром дегуманизации» не всегда и необязательно сочетается с утратой профессиональных качеств, по меньшей мере, на начальных стадиях его проявления. В письме к Ю.А. Шрейдеру Шаламов писал буквально следующее:
«Вся лагерная медицина — например, то, что заключенного спасает только врач и никто больше в лагере — это не противоречит тому, что лагерный врач и убивает. Разве разоблачение симулянтов-лагерников по приказу не убийство? Ведь симулянт, как правило, – болен (только не этой болезнью), голоден, избит и устал от холода и голода, измучен до предела. Но лагерный врач не видит ничего, кроме «мастырки» – фальшивой раны. И рана-то не фальшивая, но нанесена с членовредительскими целями» (Шаламов 2004; т.6: 541–544).
Эмоциональное отупение врача, даже если оно сочетается с высоким профессионализмом, способно, по Шаламову, породить лишь преступление и ничего более. Такой «профессионал» – Петр Иванович, заведующий хирургическим отделением – выведен в рассказе «Шоковая терапия».
«Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкали заключенных на симуляцию. Петр Иванович сам был недавно заключенным, и его не удивляло ни детское упрямство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович, бывший доцент одного из сибирских институтов, сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей. Но он был врачом в большей степени, чем человеком, он был специалистом прежде всего. Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача-специалиста. Он понимал задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой, общегосударственной точки зрения и не с позиций морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение своим знаниям, своему психологическому умению расставлять западни, в которые должны были к вящей славе науки попадаться голодные, полусумасшедшие, несчастные люди. В этом сражении врача и симулянта на стороне врача было все – и тысячи хитрых лекарств, и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста, а на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал заключенному силу для борьбы. Разоблачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение: еще раз он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию, а, наоборот, отточил, отшлифовал ее, словом, что он еще может» (Шаламов 2004; т.1: 170–179).
Сюжет рассказа основан на разоблачении заключенного Мерзлякова, который симулировал неправильно сросшийся перелом позвоночника для того, чтобы любой ценой отдалить выписку из больницы и, тем самым, избежать, а точнее, отсрочить верную смерти на лесоповале.
«Дураки эти хирурги, – думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова. – Топографической анатомии не знают или забыли, а рефлексов и никогда не знали. Спасаются одним рентгеном. А нет снимка – и не могут уверенно сказать даже о простом переломе. А фасону сколько! – Что Мерзляков симулянт – это Петру Ивановичу ясно, конечно. – Ну, пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме. Все бумажки в историю болезни подклеим». Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект нового разоблачения» (Шаламов 2004; т.1: 170–179).
Пример профессиональной деформации Петра Ивановича мог бы войти в учебники по психологии преступников, потому как демонстрирует не просто «дегуманизацию» но готовность «во имя профессионализма» пойти на заведомое преступление, сопряженное со смертельной опасностью для «симулянта». «Разоблачительный метод», заставивший Мерзлякова разогнуть позвоночник представлял собой судорожный синдром, вызванный жировой эмболией сосудов мозга раствором камфары, введенным в вену.
Крайние степени эмоционального выгорания медика, описываются современными специалистами как психосоматическая усталость, эмоциональное истощение, пониженная самооценка, невроз навязчивых состояний на фоне нарушений сердечной деятельности, дыхательной и пищеварительной дисфункции, нарушения сна. Приобретенные навыки и умения постепенно утрачиваются, а профессиональная пригодность становится все более сомнительной. Без специальной медико-психологической помощи такой человек вряд ли вернется к нормальной жизни. Крайние стадии «эмоционального выгорания» можно найти и в шаламовской прозе, с той лишь поправкой, что писатель наблюдал их в колымских лагерях, по собственному выражению «у рассудка на краю». В рассказе «Ночью» два лагерных «доходяги», один из которых в прошлом врач, решаются на ночную вылазку на кладбище, где можно раскопать свежую могилу, снять с погребенного утром покойника одежду и потом обменять ее на хлеб.
«…Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал – кровь не останавливалась.– Плохая свертываемость, – равнодушно сказал Глебов. – Ты врач, что ли? – спросил Багрецов, отсасывая кровь. Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя – дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все […] Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно – чтобы скорее убрать камни. […] Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку. – А кальсоны совсем новые, – удовлетворенно сказал Багрецов. Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку. – Надень лучше на себя, – сказал Багрецов. – Нет, не хочу, – пробормотал Глебов. Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями» (Шаламов 2004; т.1: 53–56).
Эмоциональная сфера Глебова, сохранила лишь тусклые отблески когда-то существовавших эмоций, вытесненных примитивными рефлексами, должными обеспечить самосохранение любой ценой. Чувство времени сближается с осознанием того, что он дожил до очередного отбоя. Его воспоминания о медицинских знаниях всплывают неожиданно для него самого, для того, чтобы тут же опять исчезнуть в глубине подсознания. Сопоставить это «выгорание» можно разве что с признаками распада эмоционально волевой сферы больных деменцией.
И, наконец, в «Колымских рассказах» писатель описывает медиков-«антигероев», которые совершают преступления сознательно, «по долгу службы». Прежде всего, это представители медицинского начальства различных рангов, имеющие сугубо функциональное мышление и не отягощенные состраданием к стоящим ниже их по служебной лестнице а, тем более, к заключенным.
«…А хозяином моей судьбы на Утиной был доктор Беридзе. У врачей-колымчан могут быть два вида преступления – преступление действием, когда врач направляет в штрафзону под пули, – ведь юридически без санкции врачей не обходится ни один акт об отказе от работы. Это – один род преступления врачей на Колыме. Другой род врачебных преступлений – это преступление бездействием. В случае с Беридзе было преступление бездействием. Он ничего не сделал, чтобы мне помочь, смотрел на мои жалобы равнодушно. Я превратился в доходягу, но не успел умереть» (Шаламов 2004; т.2: 334–339).
Нет необходимости писать много о том, что этот случай с Беридзе, описанный Шаламовым в очерке «Триангуляция 3 класса», был для гулаговской медицины «состоянием средней тяжести». «Преступления действием», совершаемые лагерными врачами, были на этом фоне преступлением вдвойне. Среди главных героев «Колымских рассказов» есть несколько медиков-начальников разного уровня и разных характеров. Общим для них была «посильная помощь» системе в ликвидации «врагов народа». Некоторые, как главный герой рассказа «Доктор Ямпольский», сам выходец из среды заключенных, так двигались по карьерной лестнице, обеспечивая за счет других свое устойчивое положение и благополучное существование на Колыме:
«Постепенно от должности к должности Ямпольский неизбежно набирался и врачебного опыта, а главное – научился уменью вовремя промолчать, уменью вовремя написать донос, информировать. Все это было бы неплохо, если бы вместе не росла у Ямпольского ненависть ко всем доходягам вообще и к доходягам из интеллигенции в особенности. Вместе со всем лагерным начальством Колымы Ямпольский видел в каждом доходяге – филона и врага народа. И, не умея понять человека, не желая ему верить, Ямпольский брал на себя большую ответственность посылать в колымские лагерные печи – то есть на мороз в 60 градусов – доходивших людей, которые в этих печах умирали. Ямпольский смело брал на себя свою долю ответственности, подписывая акты о смерти, заготовленные начальством, даже сам эти акты писал» (Шаламов 2004; т.2: 358–366).
Другие, как начальник санотдела полковник Черпаков (очерк «Геркулес») являлись, вероятно, садистами по натуре:
«Я барану, барану, понимаете, голову назад заворачиваю. Крак – и готово. – Почетный гость поймал за пуговицу Андрея Ивановича. – А у этого твоего… подарка – у живого голову оторву, – сказал он, любуясь произведенным впечатлением. – Где петух? […] Мощные пальцы ухватили петуха за шею. На лице почетного гостя сквозь нечистую толстую кожу проступил румянец. Движением, каким разгибают подковы, почетный гость оторвал голову петуха напрочь. Петушья кровь забрызгала отглаженные брюки и шелковую рубашку. Дамы, выхватив душистые платочки, бросились наперерыв вытирать брюки почетного гостя» (Шаламов 2004; т.: 167–170).
Третьи, как главный врач доктор Доктор («Начальник больницы»), сочетали в себе и садистские качества, и служебное рвение в деле борьбы с «врагами народа».
«– Подожди, ты еще подзайдешь, подзасекнешься, – по-блатному грозил мне начальник больницы, доктор Доктор – одна из самых зловещих фигур Колымы… – Встань, как полагается. […] Травля началась недавно, после того, как доктор Доктор обнаружил в моем личном деле судимость по литеру «КРТД»1, а доктор Доктор был чекистом, политотдельщиком, пославшим на смерть немало «КРТД», и вот в его руках, в его больнице, окончивший его курсы – появился фельдшер, подлежащий ликвидации…» (Шаламов 2004; т.1: 373–379).
Примечательно, что даже среди этой группы лиц, мнивших себя хозяевами душ и тел лагерников, находились такие как заключенный врач Геннадий Петрович Зайцев («Аневризма аорты»), бывший ассистент выдающегося терапевта Д.Д. Плетнева. Зайцев случайно выявляет у приведенной ему для любовных утех пациентки Кати Гловацкой смертельно опасный диагноз и искренне, хотя и малоуспешно, пытается спасти ее от штрафного этапа.
Сделанные Шаламовым обобщения выходят за пределы чисто медико-гуманитарной сферы. Они актуальны в текущем более двадцати лет споре сторонников и противников отождествления сталинского ГУЛАГа с репрессиями, которые применялись воюющими сторонами в период русской революции и гражданской войны. Шаламов, в отличие от А.И. Солженицына и большинства представителей либерального диссидентства не придерживался точки зрения, которая выводила сталинскую диктатуру прямо из русской революции. Сталинизм, по Шаламову, если и вышел из революции 1917 года, то не как ее логическое продолжение, а как контрреволюционное отрицание, утвердившееся на костях всех, реальных, а потом и потенциальных оппозиций. Излишне напоминать, что маховик репрессий в 30-е годы раскручивался прямо пропорционально деградации Коминтерна и вхождению СССР в «реальную мировую политику», которое обеспечивалось дипломатическим признанием СССР ведущими мировыми державами, прежде всего США2. Гигантское противоречие между прогрессированием «раковой опухоли» русской революции – тоталитарного государства, державшегося на репрессиях, паразитировавшего на принудительном труде, и сопротивлением пробужденного революцией общества, по крайней мере, лучших его представителей, Шаламов переносит и на почву ГУЛАГа, который также становится ареной неравной борьбы гуманизма с крайним антигуманизмом. Раскол в сознании значительной части советского общества в 30-е годы был показан Шаламовым, рельефно нарисовавшим образы медиков ГУЛАГа. Часть из них, прежде всего, входившая в состав лагерной администрации, была убеждена в виновности заключенных, особенно политических. Другая часть, на которой Шаламов делает акцент, придерживалась прямо противоположной точки зрения. Эти медики (а среди них были и те, кто сознательно выбрал работу лагерного врача, зная о тысячах жертв системы, отправленных в ГУЛАГ за преступления, которых никогда не совершали3) были, по Шаламову, сознательной социальной группой, способной сопротивляться тоталитарной машине уничтожения постольку, поскольку являлись носителями высокого гуманитарного потенциала. И, наконец, существовала третья группа – те, кто был сломан и перемолот жерновами ГУЛАГовской системы. Шаламов показывает, что утрата гуманитарных качеств не только лишала медика воли к сопротивлению, но превращала в послушное ее орудие.
Примечания:
1 Контрреволюционная троцкистская деятельность (прим. авт.).
2 СССР был признан США 16 ноября 1933 г. в период между концом массовой коллективизации и началом «Большого Террора».
3 См., в частности, воспоминания Н.В. Савоевой, главного врача больницы Управления Северо-восточных исправительно-трудовых лагерей (УСВИТЛ): «Теперь я должна объяснить, почему мой выбор остановился на Магадане. Из пяти лет моей учебы в мединституте четыре приходятся на годы террора. В конце тридцатых годов был арестован и уничтожен нарком здравоохранения СССР Г.Н. Каминский, которого медики глубоко уважали. Это был человек, сделавший много доброго для народа. В те же годы был арестован директор нашего института Оппенгейм, которого студенты заслуженно любили. […] На нашем курсе было много молодых немецких коммунистов и немецких евреев, искавших приюта и защиты от гитлеризма в первом социалистическом государстве. От фашизма бежали из Польши под нашу защиту евреи и коммунисты. К сороковому году их всех подмели, подчистую» (Савоева 1996).
Библиография:
Шаламов, В. (2004) Собрание сочинений в 6 томах, М.: ТЕРРА.
Савоева, Н.В. (1996) Я выбрала Колыму, Магадан: МАОБТИ, 48 с.